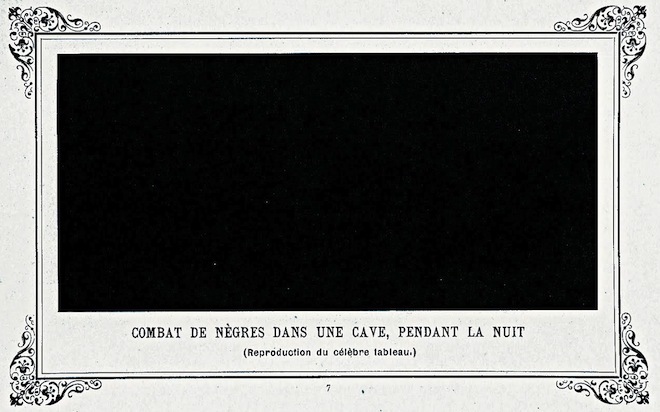среда, 12 апреля 2017
Как утомляет симулировать нормальность... (с)
понедельник, 28 декабря 2015
Fête galante. Only (17)80s kids remember this.
Немного лекций по семнадцатому и восемнадцатому векам от различных университетов. Каждое видео - под катом.
Early Modern England: Politics, Religion, and Society under the Tudors and Stuarts (HIST 251)
Professor Wrightson discusses the remarkable growth of the British economy in the late seventeenth and early eighteenth centuries. He examines the changed context of stable population and prices; regional agricultural specialization; urbanization; the expansion of overseas trade both with traditional European trading partners and with the Americas and the East; the growth of manufacturing industries which served both domestic and overseas markets, and the intensification of internal trade. He describes and explains the emergence of an increasingly closely articulated national market economy, closely linked to a nascent world economy in which Britain now played a core role
Early Modern England: Politics, Religion, and Society under the Tudors and Stuarts (HIST 251)
In this lecture, Professor Wrightson discusses the transformation of the English state in the twenty years following the Glorious Revolution of 1688. He examines the ambiguities of the Revolutionary Settlement which placed authority in William III and Mary II following the deposition/abdication of James II, and the manner in which parliamentary government was strengthened through responses to the demands of the wars precipitated by the revolution, culminating in the constitutional provisions of the Act of Settlement of 1701. Finally he considers the origins and outcomes of the 1707 Act of Union which fused the kingdoms of Scotland and England into the United Kingdom of Great Britain, and ends by briefly characterizing the paradoxical realities of the British state of 1714.
European Civilization from the Renaissance to the Present: French and Other Absolutisms
European Civilization from the Renaissance to the Present: The Scientific Revolution in Europe
European Civilization, 1648-1945 (HIST 202)
The rise of absolutism in Europe must be understood in the context of insecurity attending the religious wars of the first half of the seventeenth century, and the Thirty Years' War in particular. Faced with the unprecedented brutality and devastation of these conflicts, European nobles and landowners were increasingly willing to surrender their independence to the authority of a single, all-powerful monarch in return for guaranteed protection. Among the consequences of this consolidation of state power were the formation of large standing armies and bureaucratic systems, the curtailment of municipal privileges, and the birth of international law.
European Civilization, 1648-1945 (HIST 202)
Several reasons can be found to explain why Great Britain and the Netherlands did not follow the other major European powers of the seventeenth century in adopting absolutist rule. Chief among these were the presence of a relatively large middle class, with a vested interest in preserving independence from centralized authority, and national traditions of resistance dating from the English Civil War and the Dutch war for independence from Spain, respectively. In both countries anti-absolutism formed part of a sense of national identity, and was linked to popular anti-Catholicism. The officially Protestant Dutch, in particular, had a culture of decentralized mercantile activity far removed from the militarism and excess associated with the courts of Louis XIV and Frederick the Great.
European Civilization, 1648-1945 (HIST 202)
Peter the Great's historical significance stems not only from his military ambitions and the great expansion of the Russian Empire under his supervision, but also from his efforts to introduce secular, Western customs and ideas into Russian culture. Despite his notorious personal brutality, Peter's enthusiasm for science and modern intellectual concerns made an indelible mark both on Russia's relationship to the West and on its internal politics. The struggle under Peter's reign between Westernizers and Slavophiles, or those who resist foreign influences, can be seen at work in Russia up to the present day.
European Civilization, 1648-1945 (HIST 202)
While the major philosophical projects of the Enlightenment are associated with the names of individual thinkers such as Montesquieu, Rousseau, and Voltaire, the cultural transformation in France in the years leading up to the Revolution should also be understood in the context of the public sphere and popular press. Alongside such luminaries as those associated with Diderot's Encyclopédie were a host of lesser pamphleteers and libellists eager for fame and some degree of fortune. If the writings of this latter group were typically vulgar and bereft of literary merit, they nonetheless contributed to the "desacralization" of monarchy in the eyes of the growing literate public. Lawyers' briefs, scandal sheets and pornographic novels all played a role in robbing the monarchy of its claim to sacred authority at the same time as they helped advance the critique of despotism that would serve as a major impetus for the Revolution.
History of New-York
The English sweet tooth and the New York slave trade, 1690-1725: Social inequality and elite factionalism shape competing elites' quest for political and economic power.
History of New-York
The origins of Homeland Security: the Zenger Affair and the "Negro Riot of 1741."
History of New-York
Life in pre-Revolutionary New York for the poor and the Yankee Doodle Dandies
History of New-York
Life in pre-Revolutionary New York for the poor and the Yankee Doodle Dandies
History of the World after 1500CE
Transformations in Europe, 1500-1750
History of the World after 1500CE
The Americas, the Atlantic, and Africa, 1530-1770
History of the World after 1500CE
The Americas, The Atlantic, and Africa, 1530-1770 II
History of the World after 1500CE
Southwest Asia and the Indian Ocean, 1500-1750
History of the World after 1500CE
Early Modern Islamic Governance
History of the World after 1500CE
Northern Eurasia, 1500 -1800
History of the World after 1500CE
Revolutionary Changes in the Atlantic World, 1750-1850 Part I
History of the World after 1500CE
Revolutionary Changes in the Atlantic World, 1750-1850 Part II
History of the World after 1500CE
The Early Industrial Revolution, 1760-1851
History of the World after 1500CE
British India
American Revolution
25 lections
Early Modern England: Politics, Religion, and Society under the Tudors and Stuarts (HIST 251)
Professor Wrightson discusses the remarkable growth of the British economy in the late seventeenth and early eighteenth centuries. He examines the changed context of stable population and prices; regional agricultural specialization; urbanization; the expansion of overseas trade both with traditional European trading partners and with the Americas and the East; the growth of manufacturing industries which served both domestic and overseas markets, and the intensification of internal trade. He describes and explains the emergence of an increasingly closely articulated national market economy, closely linked to a nascent world economy in which Britain now played a core role
Early Modern England: Politics, Religion, and Society under the Tudors and Stuarts (HIST 251)
In this lecture, Professor Wrightson discusses the transformation of the English state in the twenty years following the Glorious Revolution of 1688. He examines the ambiguities of the Revolutionary Settlement which placed authority in William III and Mary II following the deposition/abdication of James II, and the manner in which parliamentary government was strengthened through responses to the demands of the wars precipitated by the revolution, culminating in the constitutional provisions of the Act of Settlement of 1701. Finally he considers the origins and outcomes of the 1707 Act of Union which fused the kingdoms of Scotland and England into the United Kingdom of Great Britain, and ends by briefly characterizing the paradoxical realities of the British state of 1714.
European Civilization from the Renaissance to the Present: French and Other Absolutisms
European Civilization from the Renaissance to the Present: The Scientific Revolution in Europe
European Civilization, 1648-1945 (HIST 202)
The rise of absolutism in Europe must be understood in the context of insecurity attending the religious wars of the first half of the seventeenth century, and the Thirty Years' War in particular. Faced with the unprecedented brutality and devastation of these conflicts, European nobles and landowners were increasingly willing to surrender their independence to the authority of a single, all-powerful monarch in return for guaranteed protection. Among the consequences of this consolidation of state power were the formation of large standing armies and bureaucratic systems, the curtailment of municipal privileges, and the birth of international law.
European Civilization, 1648-1945 (HIST 202)
Several reasons can be found to explain why Great Britain and the Netherlands did not follow the other major European powers of the seventeenth century in adopting absolutist rule. Chief among these were the presence of a relatively large middle class, with a vested interest in preserving independence from centralized authority, and national traditions of resistance dating from the English Civil War and the Dutch war for independence from Spain, respectively. In both countries anti-absolutism formed part of a sense of national identity, and was linked to popular anti-Catholicism. The officially Protestant Dutch, in particular, had a culture of decentralized mercantile activity far removed from the militarism and excess associated with the courts of Louis XIV and Frederick the Great.
European Civilization, 1648-1945 (HIST 202)
Peter the Great's historical significance stems not only from his military ambitions and the great expansion of the Russian Empire under his supervision, but also from his efforts to introduce secular, Western customs and ideas into Russian culture. Despite his notorious personal brutality, Peter's enthusiasm for science and modern intellectual concerns made an indelible mark both on Russia's relationship to the West and on its internal politics. The struggle under Peter's reign between Westernizers and Slavophiles, or those who resist foreign influences, can be seen at work in Russia up to the present day.
European Civilization, 1648-1945 (HIST 202)
While the major philosophical projects of the Enlightenment are associated with the names of individual thinkers such as Montesquieu, Rousseau, and Voltaire, the cultural transformation in France in the years leading up to the Revolution should also be understood in the context of the public sphere and popular press. Alongside such luminaries as those associated with Diderot's Encyclopédie were a host of lesser pamphleteers and libellists eager for fame and some degree of fortune. If the writings of this latter group were typically vulgar and bereft of literary merit, they nonetheless contributed to the "desacralization" of monarchy in the eyes of the growing literate public. Lawyers' briefs, scandal sheets and pornographic novels all played a role in robbing the monarchy of its claim to sacred authority at the same time as they helped advance the critique of despotism that would serve as a major impetus for the Revolution.
History of New-York
The English sweet tooth and the New York slave trade, 1690-1725: Social inequality and elite factionalism shape competing elites' quest for political and economic power.
History of New-York
The origins of Homeland Security: the Zenger Affair and the "Negro Riot of 1741."
History of New-York
Life in pre-Revolutionary New York for the poor and the Yankee Doodle Dandies
History of New-York
Life in pre-Revolutionary New York for the poor and the Yankee Doodle Dandies
History of the World after 1500CE
Transformations in Europe, 1500-1750
History of the World after 1500CE
The Americas, the Atlantic, and Africa, 1530-1770
History of the World after 1500CE
The Americas, The Atlantic, and Africa, 1530-1770 II
History of the World after 1500CE
Southwest Asia and the Indian Ocean, 1500-1750
History of the World after 1500CE
Early Modern Islamic Governance
History of the World after 1500CE
Northern Eurasia, 1500 -1800
History of the World after 1500CE
Revolutionary Changes in the Atlantic World, 1750-1850 Part I
History of the World after 1500CE
Revolutionary Changes in the Atlantic World, 1750-1850 Part II
History of the World after 1500CE
The Early Industrial Revolution, 1760-1851
History of the World after 1500CE
British India
American Revolution
25 lections
воскресенье, 06 сентября 2015
Жизнь частенько вышибает из меня всю дурь, но я знаю, где достать ещё
В американской библиотеке Конгресса хранится большое количество разных карт мира и отдельных государств. Например, здесь есть оригинальная карта Европы под названием «Geografical fun». Выпущена она была в 1868-м году, ее автором был некий Алеф. Забавную карту Европы напечатало лондонского издательство Hodder and Stoughton. Здесь каждая страна представляет собой весьма характерный персонаж и этот образ сопровождается смешным четверостишьем.

На картах есть изображение воинственной Пруссии, государства, которое уже не существует. Есть здесь и Россия, в образе которой в обязательном порядке присутствует медведь и боярин.

читать дальше

На картах есть изображение воинственной Пруссии, государства, которое уже не существует. Есть здесь и Россия, в образе которой в обязательном порядке присутствует медведь и боярин.

читать дальше
четверг, 30 июля 2015
Жизнь частенько вышибает из меня всю дурь, но я знаю, где достать ещё

Анна Фаркухарсон родилась в 1723 году в семье Иана Фаркухарсона из Инверкаулда, вождя соответствующего клана. Клан Фаркухарсон издревле входил в конфедерацию Хаттан, и был вполне предсказуем брак красавицы Анны с Ангюсом Макинтошем, вождем формально возглавлявшего коалицию клана Макинтош. Брак этот не был браком вполне по расчету, ибо жених и невеста очень понравились друг другу, и семейная жизнь складывалась у них душа в душу. Деятельная и предприимчивая Анна принимала живейшее участие в делах молодого вождя; так, когда в 1744 году Джон Кемпбелл, лорд Лоудон, предложил тому право командования одним из т.н. "Независимых Рот" (фактически "переизданием" проганноверской "черной стражи"), буде Ангюс ухитрится таковую роту собрать, Анна ничтоже сумняшеся переоделась в мужское платье, красиво прогнала на лошади по горам, и к вечеру 97 добровольцев из требуемой сотни явились к вождю на запись.
 Однако рекрутерские таланты Анны искренне радовали Ангюса только до 1745 года - то бишь пока не обратились против него самого. Иан Фаркухарсон был стойким убежденным якобитом и воспитал дочь в соответствующем духе; молодой Макинтош, напротив, искренне полагал ганноверскую династию и ее притязания легитимными; и если в мирном быту разногласия Анны и Ангюса не заходили далее отвлеченных дискуссий, то с высадкой принца-регента в Шотландии и началом войны за Реставрацию Стюартов сдерживаться стало значительно труднее.
Однако рекрутерские таланты Анны искренне радовали Ангюса только до 1745 года - то бишь пока не обратились против него самого. Иан Фаркухарсон был стойким убежденным якобитом и воспитал дочь в соответствующем духе; молодой Макинтош, напротив, искренне полагал ганноверскую династию и ее притязания легитимными; и если в мирном быту разногласия Анны и Ангюса не заходили далее отвлеченных дискуссий, то с высадкой принца-регента в Шотландии и началом войны за Реставрацию Стюартов сдерживаться стало значительно труднее.читать дальше
воскресенье, 26 июля 2015
Fête galante. Only (17)80s kids remember this.
Надеюсь, общие читатели простят за репост )
Никки навела на прелестную историю времен войны за испанское наследство; как водится, про шотландца по имени Дональд Макбейн из Ивернесса и про самого юного воина британской армии )) Произошла она в 1709 году, во время битвы при Мальплаке (она считается самой крупной битвой восемнадцатого века; Евгений Савойский и герцог Мальборо против французов).
Как и многие шотландцы, Дональд Макбейн был изрядным дуэлянтом, который в двадцать четыре года сбежал от хорошей жизни в армию, но это не помешало, а даже помогло ему оставить в конце жизни следующие воспоминания: "The Expert Sword-man's Companion; or the True Art of Self-Defence. With all Account of the Author's Life and his Transactions during the Wars with France. To which is annexed, The Arts of Gunnerie. Illustrated with 22 etched copper plates".
Перед самой битвой при Мальплаке его чуть было не повесили союзники-голландцы за то, что он сбил их на свежекупленном коне, но, к счастью, от виселицы его избавило заступничество майора Уитни, который выкупил его за бутылку вина, и оправдание генерала Вуда, который к тому же заставил голландцев заплатить за убежавшего жеребца четырнадцать пистолей (а Дональд купил его всего за четыре). Шотландец нигде не пропадет! Если бы не эти благородные люди, то мы бы так и не узнали нижеследующей истории:
"В то время у меня было двое детей. Жены остались далеко позади. Моя жена отдала моего маленького сына жене товарища, у которой была лошадь. Когда женщина услышала, что ее муж мертв, она поскакала вперед, пока не увидела меня на переднем края; тогда она кинула мне мальчика. Мне пришлось положить его в сухарный мешок: сыну было около трех лет. Когда мы развернулись вправо, сына ранило в руку. Я нашел хирурга и забинтовал рану. У меня не было ни хлеба, ни питья, чтобы дать ему. Я достал для него чуточку спиртного у офицера и птичью ножку; после чего он успокоился и всю ночь вел себя тихо; наутро его мать забрала его у меня".
В то время Дональду Макбейну было сорок шесть лет. А почитать о его жизни подробней можно здесь, правда, на английском.
А мы тут страдаем, что писать по историческому канону на зиму нечего. Хо-хо, как говорила Эллочка-людоедка.
Ну и картинка для привлечения внимания:
Никки навела на прелестную историю времен войны за испанское наследство; как водится, про шотландца по имени Дональд Макбейн из Ивернесса и про самого юного воина британской армии )) Произошла она в 1709 году, во время битвы при Мальплаке (она считается самой крупной битвой восемнадцатого века; Евгений Савойский и герцог Мальборо против французов).
Как и многие шотландцы, Дональд Макбейн был изрядным дуэлянтом, который в двадцать четыре года сбежал от хорошей жизни в армию, но это не помешало, а даже помогло ему оставить в конце жизни следующие воспоминания: "The Expert Sword-man's Companion; or the True Art of Self-Defence. With all Account of the Author's Life and his Transactions during the Wars with France. To which is annexed, The Arts of Gunnerie. Illustrated with 22 etched copper plates".
Перед самой битвой при Мальплаке его чуть было не повесили союзники-голландцы за то, что он сбил их на свежекупленном коне, но, к счастью, от виселицы его избавило заступничество майора Уитни, который выкупил его за бутылку вина, и оправдание генерала Вуда, который к тому же заставил голландцев заплатить за убежавшего жеребца четырнадцать пистолей (а Дональд купил его всего за четыре). Шотландец нигде не пропадет! Если бы не эти благородные люди, то мы бы так и не узнали нижеследующей истории:
"В то время у меня было двое детей. Жены остались далеко позади. Моя жена отдала моего маленького сына жене товарища, у которой была лошадь. Когда женщина услышала, что ее муж мертв, она поскакала вперед, пока не увидела меня на переднем края; тогда она кинула мне мальчика. Мне пришлось положить его в сухарный мешок: сыну было около трех лет. Когда мы развернулись вправо, сына ранило в руку. Я нашел хирурга и забинтовал рану. У меня не было ни хлеба, ни питья, чтобы дать ему. Я достал для него чуточку спиртного у офицера и птичью ножку; после чего он успокоился и всю ночь вел себя тихо; наутро его мать забрала его у меня".
В то время Дональду Макбейну было сорок шесть лет. А почитать о его жизни подробней можно здесь, правда, на английском.
Ну и картинка для привлечения внимания:
понедельник, 13 июля 2015
Как утомляет симулировать нормальность... (с)
Совершенно прелестная статья Джона Шемякина
За наводку спасибо Шано
Одной из задач молодой санкт-петербургской полиции в 18 веке было сбережение города на Неве от иностранных посольств.
Город был молодой, неокрепший, а посольств было много.
В каждом иностранном посольстве творились какие-то несусветные причуды.
Не то, чтобы при пересечении государственной границы посольства массово сходили с ума от впечатлений, предоставляемых нашей Родиной. Но какие-то подвижки в сознании происходили.
Шведы завели себе в посольстве медведей, которых стали ещё и разводить.
Австрийцы принялись подделывать "ефимки с признаками", завладев старым штампом для перечеканки.
Французы крали коней.
В 1736 году сотрудники персидского посольства, располагавшегося на Мойке у Зелёного (Народного) моста сели покурить. "...Через полчаса дом пылал. Пламя распространилось с чрезвычайной быстротой и вскоре охватило многие деревянные здания на берегу Мойки и Гостиный двор ( это на Невском уже). Пожар продолжался восемь часов и истребил все здания от Зелёного моста до церкви Вознесения". Всего сгорело тогда 10 % деревянного Санкт-Петербурга. Многие погорельцы стали искать эвакуировавшееся персидское посольство, которое пришлось прятать в монастыре. Невский монастырь пришлось, потом заново святить. По результатам пожара в городе будущих трёх революций впервые ввели государственное нормирование продажи продовольствия: 16 видов товаров народного потребления - от мёда до гречи.
Не успели пережить иранскую народную дипломатию, как 6 июня 1737 года на крыше дома, стоявшего между дворцом цесаревны Елизаветы Петровны и помещением, занимаемым посольством Пруссии, нашли мину в виде горшка, набитую порохом и горючими материалами, к горшку прилагался запал. Это уже не просто поджог, тут теракт форменный намечался. Полиция и Тайная канцелярия стала петрушить подозреваемых. Только вышли на сотрудника посольства короля Пруссии по фамилии Ранке, только стали думать, как бы его скрасть для неторопливой беседы, как 24 июля окрестности посольства Пруссии полыхнули с двух концов. Было это в районе Миллионной. Горело до Мойки, до Невы, до Царицына луга и до Адмиралтейства. Дипломат Ранке исчез. Его потом во Франции за шпионаж повесят.
Глядя на французов с конями, австрийцев со штепселем, персов-поджигателей и террористов-немцев, другие посольства не отставали. Англичане не отставали больше всех. Они повадились стрелять из окон посольства. Не очень целясь по прохожим, но регулярно.
читать дальше
За наводку спасибо Шано
Одной из задач молодой санкт-петербургской полиции в 18 веке было сбережение города на Неве от иностранных посольств.
Город был молодой, неокрепший, а посольств было много.
В каждом иностранном посольстве творились какие-то несусветные причуды.
Не то, чтобы при пересечении государственной границы посольства массово сходили с ума от впечатлений, предоставляемых нашей Родиной. Но какие-то подвижки в сознании происходили.
Шведы завели себе в посольстве медведей, которых стали ещё и разводить.
Австрийцы принялись подделывать "ефимки с признаками", завладев старым штампом для перечеканки.
Французы крали коней.
В 1736 году сотрудники персидского посольства, располагавшегося на Мойке у Зелёного (Народного) моста сели покурить. "...Через полчаса дом пылал. Пламя распространилось с чрезвычайной быстротой и вскоре охватило многие деревянные здания на берегу Мойки и Гостиный двор ( это на Невском уже). Пожар продолжался восемь часов и истребил все здания от Зелёного моста до церкви Вознесения". Всего сгорело тогда 10 % деревянного Санкт-Петербурга. Многие погорельцы стали искать эвакуировавшееся персидское посольство, которое пришлось прятать в монастыре. Невский монастырь пришлось, потом заново святить. По результатам пожара в городе будущих трёх революций впервые ввели государственное нормирование продажи продовольствия: 16 видов товаров народного потребления - от мёда до гречи.
Не успели пережить иранскую народную дипломатию, как 6 июня 1737 года на крыше дома, стоявшего между дворцом цесаревны Елизаветы Петровны и помещением, занимаемым посольством Пруссии, нашли мину в виде горшка, набитую порохом и горючими материалами, к горшку прилагался запал. Это уже не просто поджог, тут теракт форменный намечался. Полиция и Тайная канцелярия стала петрушить подозреваемых. Только вышли на сотрудника посольства короля Пруссии по фамилии Ранке, только стали думать, как бы его скрасть для неторопливой беседы, как 24 июля окрестности посольства Пруссии полыхнули с двух концов. Было это в районе Миллионной. Горело до Мойки, до Невы, до Царицына луга и до Адмиралтейства. Дипломат Ранке исчез. Его потом во Франции за шпионаж повесят.
Глядя на французов с конями, австрийцев со штепселем, персов-поджигателей и террористов-немцев, другие посольства не отставали. Англичане не отставали больше всех. Они повадились стрелять из окон посольства. Не очень целясь по прохожим, но регулярно.
читать дальше
четверг, 02 апреля 2015
А еще у меня душа и ресницы красивые (с)
Товпека А.В. Практика использования голубиной связи в военном деле и охране границ Российской Империи. Очень интересная статья: подробная, но совершенно не сухая. Такую можно просто с удовольствием почитать и культурно просветиться при этом. Рекомендую. Написано обстоятельно, но при этом так азартно! Я люблю, когда люди пишут с азартом: это значит, что им очень нравится то, чем они занимаются. Эта статья с первых строк подкупает обращением к читателю: Если уважаемые читатели внимательно смотрели телесериал «Гибель империи», то им наверняка запомнился эпизод, в котором один из немецких шпионов при помощи почтового голубя пытается переправить за границу секретные чертежи.
Из интересного:
Голубиная почта рассматривается в контексте уже существующего телеграфа.
Преимущества голубей перед аэростатами, а также комбинация этих беспроводных средств связи.
Внезапное возникновение централизованной голубиной почты в Российской Империи.
Из интересного:
Голубиная почта рассматривается в контексте уже существующего телеграфа.
Преимущества голубей перед аэростатами, а также комбинация этих беспроводных средств связи.
Внезапное возникновение централизованной голубиной почты в Российской Империи.
пятница, 13 марта 2015
Как утомляет симулировать нормальность... (с)
Слегка "почекрыжила" для читабельности.
В 1810 году несколько немецких художников, приехав в Рим, обосновались коммуной в пустующем монастыре, чтобы в духовном единении создавать истинно христианское искусство, восходящее к временам до «академической порчи» - к Средневековью и Раннему Возрождению. Назарейцы, как они называли себя, в равной степени вдохновлялись живописью итальянской и отечественной, взыскуя синтеза традиций. После освобождения Германии от Наполеона почти все вернулись на родину. Фридрих Овербек остался в Риме, но именно ему принадлежит своего рода манифест назарейской программы - не только искусства касающийся.
Поначалу это был всего лишь манифест дружбы: картина мыслилась как парная к картине Франца Пфорра «Суламифь и Мария». Через 16 лет после смерти Пфорра Овербек домыслил идею до более глобальной, соединив в «священном союзе» не только руки героинь (Италия - в лавровом венке и перуджиновско-рафаэлевских одеждах, Германия - в миртовом и в костюме с портретов Кранаха), но и пейзажи за их спиной - умбрийские тающие холмы с жесткой немецкой готикой. Коллаж из цитат, в сущности, но именно назарейцы были первыми, кто обратил живопись от натуры к культуре: за ними последовали прерафаэлиты, а за прерафаэлитами - художники стиля модерн.
Читать дальше
КАРТИНЫ, КОТОРЫЕ НИКОГДА НЕ ПОПАДУТ В УЧЕБНИКИ
1

Фридрих Овербек. «Италия и Германия» (1811-1828)

Фридрих Овербек. «Италия и Германия» (1811-1828)
В 1810 году несколько немецких художников, приехав в Рим, обосновались коммуной в пустующем монастыре, чтобы в духовном единении создавать истинно христианское искусство, восходящее к временам до «академической порчи» - к Средневековью и Раннему Возрождению. Назарейцы, как они называли себя, в равной степени вдохновлялись живописью итальянской и отечественной, взыскуя синтеза традиций. После освобождения Германии от Наполеона почти все вернулись на родину. Фридрих Овербек остался в Риме, но именно ему принадлежит своего рода манифест назарейской программы - не только искусства касающийся.
Поначалу это был всего лишь манифест дружбы: картина мыслилась как парная к картине Франца Пфорра «Суламифь и Мария». Через 16 лет после смерти Пфорра Овербек домыслил идею до более глобальной, соединив в «священном союзе» не только руки героинь (Италия - в лавровом венке и перуджиновско-рафаэлевских одеждах, Германия - в миртовом и в костюме с портретов Кранаха), но и пейзажи за их спиной - умбрийские тающие холмы с жесткой немецкой готикой. Коллаж из цитат, в сущности, но именно назарейцы были первыми, кто обратил живопись от натуры к культуре: за ними последовали прерафаэлиты, а за прерафаэлитами - художники стиля модерн.
Читать дальше
воскресенье, 01 февраля 2015
У ветра тоже была своя история.
среда, 21 января 2015
Жизнь частенько вышибает из меня всю дурь, но я знаю, где достать ещё
Смутное время Бакумацу знаменовалось наплывом в Японию иностранцев, что породило в стране смятение умов и многие раздоры. Зато какую интересную натуру получили художники!
ICHIHOSAI YOSHIFUJI

Русская пара на отдыхе, 1861
"Голландцы, британцы, русские..."
ICHIHOSAI YOSHIFUJI

Русская пара на отдыхе, 1861
"Голландцы, британцы, русские..."
пятница, 12 декабря 2014
среда, 10 декабря 2014
Fête galante. Only (17)80s kids remember this.
Хорошая лекция "Развлечения в Лондоне восемнадцатого века":
Увы, на английском.
Увы, на английском.
среда, 03 декабря 2014
Жизнь частенько вышибает из меня всю дурь, но я знаю, где достать ещё
Горная Шотландия конца XVII - первой половины XVIII века и исторические романы Вальтера Скотта
Обращаясь к обычаям и нравам Верхней и Нижней Шотландии в первой половине XVIII столетия, Вальтер Скотт не только отдал должное той романтической традиции в европейской литературе первой половины уже XIX в., одним из наиболее примечательных представителей которой он и являлся. В данном случае перед нами еще и любопытный пример эволюции образа шотландского горца. Вальтер Скотт в своих исторических штудиях и литературных опытах проводником в Горный Край (Хайленд), каким тот был во времена действия романа "Уиверли, или Шестьдесят лет назад", избрал современника и очевидца, никогда бы не помыслившего себе за "Робин Гудами" Хайленда тех удивительных качеств, которые вызывали восхищение образованной британской публики в первой половине XIX в.1 Романтики, по словам У. Диксона, сочли "якобитский эпизод"2 "своим" и так яростно встречали любые возражения на сей счет, что "история здесь покинула поле боя в отчаянии"3. Образ шотландского горца (хайлендера) в начале XIX в. был сильно романтизирован, и последний превратился из "мятежника" в "верного подданного" своего короля, причем уже со второй половины XVIII в. эта лояльность будет означать преданность суверенам дома Ганноверов. Этот образ и впрямь не без оснований можно называть "изобретением" горношотландской "традиции", неотъемлемой частью которой стала "якобитская сага". Всё это словно заслонило собой другую часть британской, шотландской, горношотландской истории XVIII столетия, - то, что было между (до и после) "особенными" для якобитского мифа 1715 и 1745 гг.
читать дальше
Обращаясь к обычаям и нравам Верхней и Нижней Шотландии в первой половине XVIII столетия, Вальтер Скотт не только отдал должное той романтической традиции в европейской литературе первой половины уже XIX в., одним из наиболее примечательных представителей которой он и являлся. В данном случае перед нами еще и любопытный пример эволюции образа шотландского горца. Вальтер Скотт в своих исторических штудиях и литературных опытах проводником в Горный Край (Хайленд), каким тот был во времена действия романа "Уиверли, или Шестьдесят лет назад", избрал современника и очевидца, никогда бы не помыслившего себе за "Робин Гудами" Хайленда тех удивительных качеств, которые вызывали восхищение образованной британской публики в первой половине XIX в.1 Романтики, по словам У. Диксона, сочли "якобитский эпизод"2 "своим" и так яростно встречали любые возражения на сей счет, что "история здесь покинула поле боя в отчаянии"3. Образ шотландского горца (хайлендера) в начале XIX в. был сильно романтизирован, и последний превратился из "мятежника" в "верного подданного" своего короля, причем уже со второй половины XVIII в. эта лояльность будет означать преданность суверенам дома Ганноверов. Этот образ и впрямь не без оснований можно называть "изобретением" горношотландской "традиции", неотъемлемой частью которой стала "якобитская сага". Всё это словно заслонило собой другую часть британской, шотландской, горношотландской истории XVIII столетия, - то, что было между (до и после) "особенными" для якобитского мифа 1715 и 1745 гг.
читать дальше
суббота, 29 ноября 2014
Жизнь частенько вышибает из меня всю дурь, но я знаю, где достать ещё
Интеллектуалы и их среда.
Клубы и общества в Шотландии в XVIII веке
Актуальная тема "интеллектуалы и власть" в нашей стране часто сводится к проблеме "интеллигенция и государство", а решение ее ищется в доказательстве необходимости поддержки интеллектуалов со стороны государства. Существуют ли другие исторические интерпретации этой темы? Что делать, если государство нищее и отсталое, а центральная власть слаба или далека от интеллектуалов и их проблем? Как ученому в таких условиях не только выжить, но и достичь мирового уровня и славы? Можно ли двигаться вперед самим, развивая общество?
Ярким примером самостоятельности образованных слоев общества в период социального кризиса служит Шотландия, характеризовавшаяся в век Просвещения небывалым расцветом интеллектуальной активности и появлением большого числа гуманитариев мирового уровня - Д. Юма, А. Смита, А. Фергюсона, У. Робертсона, Д. Уатта, В. Скотта, Р. Бернса, Д. Максвелла и других.
Для понимания шотландского способа решения этой проблемы важно знать, в какой социальной среде возникло интеллектуальное движение, какие черты характеризовали общество, как была устроена среда интеллектуального общения: северобританских гуманитариев, называвших себя литерати. Они не только читали проповеди, толковали законы, преподавали, занимались медициной, фермерством, но и писали книги, во многом изменившие жизнь западного мира. Шотландские мыслители ХУШ в. проектировали социальную среду, и их тексты интересны потому, что обсуждают модели для меняющегося общества. Мыслители объединялись в клубы и общества. Одна из причин объединения заключалась в том, что интеллектуалов было относительно немного и они были связаны социальными условиями. Они полагали, что человек есть животное социальное: рожденный в и для общества, он развивается, проходя различные стадии от "грубости" до "утонченности", или, как шутили тогда, "от дикаря до шотландца" 1 . "Литерати Просвещения глубоко верили в человеческие контакты, как посредством личных связей, так и в публичных обсуждениях" 2 .
читать дальше
Клубы и общества в Шотландии в XVIII веке
Актуальная тема "интеллектуалы и власть" в нашей стране часто сводится к проблеме "интеллигенция и государство", а решение ее ищется в доказательстве необходимости поддержки интеллектуалов со стороны государства. Существуют ли другие исторические интерпретации этой темы? Что делать, если государство нищее и отсталое, а центральная власть слаба или далека от интеллектуалов и их проблем? Как ученому в таких условиях не только выжить, но и достичь мирового уровня и славы? Можно ли двигаться вперед самим, развивая общество?
Ярким примером самостоятельности образованных слоев общества в период социального кризиса служит Шотландия, характеризовавшаяся в век Просвещения небывалым расцветом интеллектуальной активности и появлением большого числа гуманитариев мирового уровня - Д. Юма, А. Смита, А. Фергюсона, У. Робертсона, Д. Уатта, В. Скотта, Р. Бернса, Д. Максвелла и других.
Для понимания шотландского способа решения этой проблемы важно знать, в какой социальной среде возникло интеллектуальное движение, какие черты характеризовали общество, как была устроена среда интеллектуального общения: северобританских гуманитариев, называвших себя литерати. Они не только читали проповеди, толковали законы, преподавали, занимались медициной, фермерством, но и писали книги, во многом изменившие жизнь западного мира. Шотландские мыслители ХУШ в. проектировали социальную среду, и их тексты интересны потому, что обсуждают модели для меняющегося общества. Мыслители объединялись в клубы и общества. Одна из причин объединения заключалась в том, что интеллектуалов было относительно немного и они были связаны социальными условиями. Они полагали, что человек есть животное социальное: рожденный в и для общества, он развивается, проходя различные стадии от "грубости" до "утонченности", или, как шутили тогда, "от дикаря до шотландца" 1 . "Литерати Просвещения глубоко верили в человеческие контакты, как посредством личных связей, так и в публичных обсуждениях" 2 .
читать дальше
воскресенье, 23 ноября 2014
А еще у меня душа и ресницы красивые (с)
Название: Русский ондатра
Автор: Дейдре
Бета: fandom Russian Empire 2014
Размер: мини, 1243 слова.
Пейринг/Персонажи: Александр Андреевич Баранов и другие жители Русской Америки
Категория: джен
Жанр: драма
Рейтинг: G
Краткое содержание: в январе 1813 г. у берегов Русской Америки затонула «Нева», единственный в тех местах корабль, на котором можно было достичь Старого света.
Примечание/Предупреждения: герои пьют и ругаются. А что им еще делать?
читать дальше
Автор: Дейдре
Бета: fandom Russian Empire 2014
Размер: мини, 1243 слова.
Пейринг/Персонажи: Александр Андреевич Баранов и другие жители Русской Америки
Категория: джен
Жанр: драма
Рейтинг: G
Краткое содержание: в январе 1813 г. у берегов Русской Америки затонула «Нева», единственный в тех местах корабль, на котором можно было достичь Старого света.
Примечание/Предупреждения: герои пьют и ругаются. А что им еще делать?
читать дальше
суббота, 01 ноября 2014
Как утомляет симулировать нормальность... (с)
...зато грамотные.

В абсолютных лидерах, как видим, Эстония и Финляндия. Даже Петербург с Москвой им уступают.
surfingbird.ru/surf/gramotnost-v-rossijskoj-imp...

В абсолютных лидерах, как видим, Эстония и Финляндия. Даже Петербург с Москвой им уступают.
surfingbird.ru/surf/gramotnost-v-rossijskoj-imp...
понедельник, 27 октября 2014
Fête galante. Only (17)80s kids remember this.
вторник, 21 октября 2014
Fête galante. Only (17)80s kids remember this.
Мало кто не знает стихотворений и прозы Редьярда Киплинга.
Но немногие знают об одной трагической истории, связанной с его семьей и Первой Мировой Войной.
Единственный сын Киплинга, Джон, мечтал попасть на фронт, и отец, всецело поддерживающий его желание, договорился с военными чиновниками, чтобы те закрыли глаза на близорукость Джона. Как и водится в жизни, все это заканчивается печально.
В 2007 году, в день Памяти жертв Первой Мировой Войны (11 ноября, в 11 часов и 11 минут - минута молчания и почитания), был представлен следующий фильм: "Мой мальчик Джек".
Но немногие знают об одной трагической истории, связанной с его семьей и Первой Мировой Войной.
Единственный сын Киплинга, Джон, мечтал попасть на фронт, и отец, всецело поддерживающий его желание, договорился с военными чиновниками, чтобы те закрыли глаза на близорукость Джона. Как и водится в жизни, все это заканчивается печально.
В 2007 году, в день Памяти жертв Первой Мировой Войны (11 ноября, в 11 часов и 11 минут - минута молчания и почитания), был представлен следующий фильм: "Мой мальчик Джек".
четверг, 16 октября 2014
Fête galante. Only (17)80s kids remember this.
Эта милая женщина, баронесса Эльза Лаура фон Вольцоген, написала одну из самых тревожных немецких песен, посвященных Первой Мировой Войне.
суббота, 20 сентября 2014
Fête galante. Only (17)80s kids remember this.
Техническая новинка восемнадцатого века: "умный кабинет" прусского короля Фридриха Вильгельма Второго.
Это стоит увидеть! Скрытая кнопка, по которой автоматически открываются дверцы и стол превращается в шкаф, или наоборот; тайные замки, и скрытые ящики, встроенные часы и т.п.. Мастерская Давида Рёнтгена (в Эрмитаже стоит его бюро красного дерева, заказанное Екатериной Второй; Рёнтген долго работал в Париже и Петербурге).
Это стоит увидеть! Скрытая кнопка, по которой автоматически открываются дверцы и стол превращается в шкаф, или наоборот; тайные замки, и скрытые ящики, встроенные часы и т.п.. Мастерская Давида Рёнтгена (в Эрмитаже стоит его бюро красного дерева, заказанное Екатериной Второй; Рёнтген долго работал в Париже и Петербурге).

















 )
)